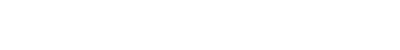- Стеклянный пруд коваль главная мысль
- Стеклянный пруд
- Образцов Сергей рассказ «Стеклянный пруд»
- Читательский дневник по рассказу «Стеклянный пруд» Сергея Образцова
- Характеристика главных героев:
- Краткое содержание рассказа «Стеклянный пруд»
- План рассказа:
- Основная мысль рассказа «Стеклянный пруд»
- Чему учит рассказ
- Краткий отзыв по рассказу «Стеклянный пруд» для читательского дневника:
- Пословицы к произведению:
- Отрывок, поразивший меня больше всего:
- Словарь неизвестных слов
- Стеклянный пруд — Коваль Ю.И.
- Стеклянный пруд читать
- Юрий Коваль «Стеклянный пруд». Заметки о работе с Т. А. Мавриной
Стеклянный пруд коваль главная мысль
Стеклянный пруд (Рисунки Татьяны Мавриной)
В этой книжке вы увидите яркие рисунки и прочтёте короткие рассказы.
Обычно бывает так: писатель написал рассказ — художник делает к нему рисунок. Иногда получается наоборот: художник сделал рисунок — писатель сочиняет к нему рассказ.
С этой книжкой всё вышло неожиданно.
Татьяна Маврина рисовала, не думая о рассказах. Она сама рассказывала о том, что видела, но на своём языке — языке линий, цвета.
Юрий Коваль ходил по лесным дорогам, ночевал у костра и, вернувшись домой, записывал, что видел.
В разное время, случайно, не сговариваясь, жили они в одной деревне, бродили по берегу одной реки. И так получилось, что художник и писатель рассказывали об одном — о весенних берёзах, о бабочках и грачах, о Большой Медведице.
Эти рисунки и рассказы могут жить отдельно, сами по себе.
Но вместе им веселей.
Так и появилась на свет эта книжка.
Для дошкольного возраста
Юрий Иосифович Коваль
Татьяна Алексеевна Маврина
Издательство «Детская литература» 1978 г.
В деревне Власово, слыхал я, есть Стеклянный пруд.
«Наверно, вода в нём очень прозрачная,— думал я.— Видны водоросли и головастики. Надо бы сходить, посмотреть».
Собрался и пошёл в деревню Власово. Прихожу. Вижу, у самого пруда две бабки на лавочке сидят, рядом гуси пасутся. Заглянул в воду — мутная. Никакого стекла, ничего не видно.
—Что ж это,— говорю бабкам,— стеклянный пруд, а вода — мутная.
—Как это так — мутная?! У нас, дяденька, вода в пруду сроду стёклышко.
—Где ж стёклышко? Чай с молоком.
—Не может быть,— говорят бабки и в пруд заглядывают.— Что такое, правда — мутная. Не знаем, дяденька, что случилось. Прозрачней нашего пруда на свете нет. Он ключами подземельными питается.
—Постой,— догадалась одна бабка,— да ведь лошади в нём сейчас купались, намутили воду. Ты потом приходи.
Я обошёл всю деревню Власово, вернулся, а в пруду три тракториста ныряют.
—Опоздал, опоздал! — кричат бабки.— Эти какое хошь стекло замутят, чище лошадей. Ты теперь рано утром приходи.
На другое утро к восходу солнца я пошёл в деревню Власово. Было ещё очень рано, над водой стелился туман, и не было никого на берегу. Пасмурно, как тёмное ламповое стекло, мерцал пруд сквозь клочья тумана.
А когда взошло солнце и туман рассеялся по берегам, просветлела вода в пруду. Сквозь толщу её, как через увеличительное стекло, я увидел песок на дне, по которому ползли тритоны.
А подальше от берега шевелились на дне пупырчатые водоросли, и за ними в густой глубине вспыхивали искры — маленькие караси. А уж совсем глубоко, на средине пруда, там, где дно превращалось в бездну, тускло вдруг блеснуло кривое медное блюдо. Это лениво повёртывался в воде зеркальный карп.
Источник
Стеклянный пруд
Стеклянный пруд
В деревне Власово, слыхал я, есть Стеклянный пруд.
«Наверно, вода в нём очень прозрачная,— думал я.— Видны водоросли и головастики. Надо бы сходить, посмотреть».
Собрался и пошёл в деревню Власово. Прихожу. Вижу, у самого пруда две бабки на лавочке сидят, рядом гуси пасутся. Заглянул в воду — мутная. Никакого стекла, ничего не видно.
—Что ж это,— говорю бабкам,— стеклянный пруд, а вода — мутная.
—Как это так — мутная?! У нас, дяденька, вода в пруду сроду стёклышко.
—Где ж стёклышко? Чай с молоком.
—Не может быть,— говорят бабки и в пруд заглядывают.— Что такое, правда — мутная. Не знаем, дяденька, что случилось. Прозрачней нашего пруда на свете нет. Он ключами подземельными питается.
—Постой,— догадалась одна бабка,— да ведь лошади в нём сейчас купались, намутили воду. Ты потом приходи.
Я обошёл всю деревню Власово, вернулся, а в пруду три тракториста ныряют.
—Опоздал, опоздал! — кричат бабки.— Эти какое хошь стекло замутят, чище лошадей. Ты теперь рано утром приходи.
На другое утро к восходу солнца я пошёл в деревню Власово. Было ещё очень рано, над водой стелился туман, и не было никого на берегу. Пасмурно, как тёмное ламповое стекло, мерцал пруд сквозь клочья тумана.
А когда взошло солнце и туман рассеялся по берегам, просветлела вода в пруду. Сквозь толщу её, как через увеличительное стекло, я увидел песок на дне, по которому ползли тритоны.
А подальше от берега шевелились на дне пупырчатые водоросли, и за ними в густой глубине вспыхивали искры — маленькие караси. А уж совсем глубоко, на средине пруда, там, где дно превращалось в бездну, тускло вдруг блеснуло кривое медное блюдо. Это лениво повёртывался в воде зеркальный карп.
Источник
Образцов Сергей рассказ «Стеклянный пруд»
Читательский дневник по рассказу «Стеклянный пруд» Сергея Образцова
Автор: Сергей Владимирович Образцов
Название: «Стеклянный пруд»
Число страниц: 1
Главные герои: рассказчик.
Второстепенные герои: отсутствуют.
Характеристика главных героев:
Рассказчик — ценитель природы и её красоты.
Мечтательный и добрый.
Краткое содержание рассказа «Стеклянный пруд»
Рассказчик пришёл к пруду и удивился, что тот стеклянный.
Он вспомнил, как летом бросал в пруд камушки, и попробовал сделать это вновь.
Потом рассказчик размышлял о жизни лягушек и наблюдал за гусями.
От этих картин и воспоминаний ему было очень хорошо.
План рассказа:
1. Пруд подо льдом.
Основная мысль рассказа «Стеклянный пруд»
Главная мысль рассказа в том, что природа прекрасна в любое время года.
Основная идея произведения в том, что в мире много чудес, надо их просто уметь замечать.
Чему учит рассказ
Произведение учит любить природу в любое время года, замечать её уникальность и неповторимость.
Учит внимательности и наблюдательности.
Краткий отзыв по рассказу «Стеклянный пруд» для читательского дневника:
Прочитав эту историю, я подумала о том, что на свете много чудесного и интересного.
Но мы это не всегда замечаем.
А вот герой истории умел увидеть прекрасное в самом обычном.
Это интересная и познавательная история.
Автору удалось поведать о красоте замёрзшего пруда, о жизни его обитателей.
Мне очень понравилось описание лягушек и недоумение гусей, которые не могли понять, куда девалась вода, и как добраться до земноводных.
Я всем советую прочитать эту историю и подумать о том, что осень ничуть не менее интересное время года, чем лето или весна.
Пословицы к произведению:
Каждому свой край сладок.
На родной сторонке и камешек знаком.
Осень — перемен восемь.
Поживи на свете, погляди чудес.
Своя земля и в горсти мила.
Отрывок, поразивший меня больше всего:
А когда взошло солнце и туман рассеялся по берегам, просветлела вода в пруду.
Сквозь толщу её, как через увеличительное стекло, я увидел песок на дне, по которому ползли тритоны.
Словарь неизвестных слов
Косогор — крутой склон берега.
Готовый читательский дневник 2 класс: краткое содержание произведений, рисунок — иллюстрация, план, главная мысль, краткий отзыв и пословицы для развития логического мышления ребенка.
Источник
Стеклянный пруд — Коваль Ю.И.
В деревне Власово есть Стеклянный пруд. Вода в нем прозрачная и сквозь нее, как через увеличительное стекло, можно рассмотреть тритонов на песчаном дне и водоросли.
Стеклянный пруд читать
В деревне Власово, слыхал я, есть Стеклянный пруд.
«Наверно, вода в нём очень прозрачная,— думал я.— Видны водоросли и головастики. Надо бы сходить, посмотреть».
Собрался и пошёл в деревню Власово. Прихожу. Вижу, у самого пруда две бабки на лавочке сидят, рядом гуси пасутся. Заглянул в воду — мутная. Никакого стекла, ничего не видно.
—Что ж это,— говорю бабкам,— стеклянный пруд, а вода — мутная.
—Как это так — мутная?! У нас, дяденька, вода в пруду сроду стёклышко.
—Где ж стёклышко? Чай с молоком.
—Не может быть,— говорят бабки и в пруд заглядывают.— Что такое, правда — мутная… Не знаем, дяденька, что случилось. Прозрачней нашего пруда на свете нет. Он ключами подземельными питается.
—Постой,— догадалась одна бабка,— да ведь лошади в нём сейчас купались, намутили воду. Ты потом приходи.
Я обошёл всю деревню Власово, вернулся, а в пруду три тракториста ныряют.
—Опоздал, опоздал! — кричат бабки.— Эти какое хошь стекло замутят, чище лошадей. Ты теперь рано утром приходи.
На другое утро к восходу солнца я пошёл в деревню Власово. Было ещё очень рано, над водой стелился туман, и не было никого на берегу. Пасмурно, как тёмное ламповое стекло, мерцал пруд сквозь клочья тумана.
А когда взошло солнце и туман рассеялся по берегам, просветлела вода в пруду. Сквозь толщу её, как через увеличительное стекло, я увидел песок на дне, по которому ползли тритоны.
А подальше от берега шевелились на дне пупырчатые водоросли, и за ними в густой глубине вспыхивали искры — маленькие караси. А уж совсем глубоко, на средине пруда, там, где дно превращалось в бездну, тускло вдруг блеснуло кривое медное блюдо. Это лениво повёртывался в воде зеркальный карп.
Источник
Юрий Коваль «Стеклянный пруд». Заметки о работе с Т. А. Мавриной
Юрий Коваль «Стеклянный пруд». Заметки о работе с Т. А. Мавриной
«Сила цвета, свежесть, свобода — первые и главные мои ощущения от живописи Мавриной. В каждом новом этюде она действительно вновь открывает мир — цветной и воздушный. Поражает бесконечная молодость глаза, вдохновенность, отсутствие усталости или отписки.
Когда я впервые смотрел пейзажи Мавриной, особо удивляла — при таком широком мазке, свободном рисунке — узнаваемость. То и дело отмечал я про себя знакомые мотивы, родные места. Было ведь такое — и я стоял на бугре, с которого написан этюд. Вон тот дальний лес называется — «мишуковский», а речка внизу Сестра, и вон под теми вётлами лучше не ловить — коряги, ловить тут надо с лодки, да вон и лодка на рисунке, стоит над ямой, где берет язь. Я понимал, что таким образом подходить к искусству — наивно, но любовь к знакомому месту совсем не мешала радоваться живописи.
На одном из пейзажей я узнал деревню Аносино, что в пяти километрах от Павловской слободы.
Этюд написан прямо с дороги, и в правой части его изображен колокол, висящий на столбах с перекладиной, мимо которого я не раз проходил. В композиции колокол был важен, а как деталь очень украшал, утверждал пейзаж. читать
Прошлым летом я снова попал в Аносино и пошел поглядеть мавринский пейзаж. Он почти не изменился, а вот колокол пропал, остались только столбы с перекладиной. Я огорчился и в письме Татьяне Алексеевне написал, что пейзаж ее испорчен, колокол пропал, и что я решил найти его, выяснить его судьбу и историю.
Маврина написала в ответном письме: «…В Аносине колокол, конечно, с колокольни Аносиной пустыни, она даже значится в памятниках архитектуры. Ротонда классического стиля, 1811 года, стены и надвратная церковь (остатки) того же времени… это было подсобное хозяйство Троице-Сергиевской Лавры… Остались в Аносине — грачиная роща, пейзаж да этот колокол…» Эти серьезные деловые строчки очень характерны для Мавриной. Ни в пейзажах своих, ни в письмах, она не пишет лишнего, только по-существу. Прочитав письмо, я лишний раз удивился тому, какая мощная подкладка знания и любви под одной лишь только деталью в картине. (Колокол я нашел в одном дворе. Он и сейчас валяется там, за поленницей дров.)
В редком по красоте пейзаже «Суздаль ночью» слева от церкви Маврина изобразила три звезды. Угол наклона, расстояние между звездами и их яркость — все говорило о том, что это — «Пояс Ориона». Все-таки мне показалось странным — в условной, декоративной вещи, где не слишком-то проработаны и детали архитектуры, соблюдать такую точность в рисунке созвездия. Я даже подумал, что сходство с Орионом — случайность, и спросил Татьяну Алексеевну, что это за звезды.
— Созвездие Ориона. А в правом верхнем углу — Дракон.
В своих пейзажах, которые отличаются от книжной графики, художница создала собственную, мавринскую условность, в которой свобода и раскрепощенность легко соединяются с высокой точностью, как, впрочем, всегда бывало в творчестве больших художников.
Мавриной можно подражать, но, мне кажется, это трудно. У подражателя не хватит духу больше, чем на два этюда. Чтобы писать как Маврина, нужно поддерживать в себе постоянное вдохновение, не расслабляться ни на секунду, ну, и, конечно, желательно иметь мавринский талант. По силе дарования, по философии и живописной концепции Маврина — из тех художников, которые создавали свою школу. Она, однако, школы не создала. И тут, конечно, дело в том, что Маврина — неповторима. Несмотря на очевидное увлечение художника импрессионистами, древней русской живописью, японской графикой, лубочной картинкой, творчество Мавриной явление исключительное. Когда о ее живописи говорят, что она началась с лубка или с увлечения Матиссом, меня это раздражает. Ей-богу, смешно: кажется подзаймись немного лубком или Матиссом и уж будешь — Маврина.
Сила Мавриной в том, что, имея огромные знания, она всегда была собой, не боялась себя, не изменяла себе. Мне кажется, если б она даже не знала лубка и французской живописи, творчество ее было бы примерно таким же, и мы получили бы те же самые работы.
Я всегда мечтал поработать с Мавриной, но сделать это было непросто. У Татьяны Алексеевны много дел, а книги современных писателей она почти никогда не иллюстрирует, предпочитая иметь дело с классикой и фольклором.
Идея книжки, которая называется теперь «Стеклянный пруд», возникла не у меня и не у Мавриной. Ее задумала и предложила нам Леокадия Яковлевна Либет, наш редактор из издательства «Детская литература». Она видела пейзажи Мавриной, читала мои короткие рассказы о природе и заметила, что порой я пишу о тех самых местах, которые рисует Маврина. Ей показалось, что эти работы могут составить книжку. Я пришел в восторг от такой возможности, а Татьяна Алексеевна отнеслась к моим рассказам вполне дружелюбно и, прочитав их, оставила на рукописи всевозможные пометки. Таких пометок я в жизни не видал, порой из них составлялись целые диалоги:
«- Какое время года?
— Ночь?
— Видно, весна…
— А бывают чибисы ночью?
— Я не знаю…
— Нет у меня ночной воды!
— А бывают охотники при луне?
— Я не знаю…
— Чибис у меня есть!
— Только днем!»
Я слышу мавринскую интонацию, ее голос, и невольно улыбаюсь: «Нет у меня ночной воды!» — и все дела.
Удивительно было, что почти ко всем рассказам Татьяна Алексеевна подобрала рисунки, предлагая порой до десятка вариантов. Конечно, работы эти не были прямой иллюстрацией, они сопутствовали рассказу, шли параллельно, а когда мы, в конце концов, собрали книжку, я понял, что вышло наоборот: рассказы сопутствуют рисункам — настолько сильна мавринская образность. Тут мне и пришлось как следует протрясти рассказы, очистить их от шелухи, решительно сократить количество метафор. Рядом с мавринской живописью метафоричная проза кажется разукрашенной и подобна пышному торту, который хочется съесть без остатка и сразу забыть о нем. Мне показалось, что надо сделать рассказы проще, лаконичней, не слишком отвлекать внимание читателя от рисунка.
Появилась и работа другого рода, еще более интересная, неожиданная. Просматривая этюды, я порой огорчался, что вот этот, например, пейзаж — «Рыжие дубы» — не войдет в книжку. Нет у меня такого рассказа, никогда ничего не писал об осенних дубах.
Но почему, собственно? Почему не писал? Разве не видел их никогда? Не замечал, как долго хранят они верность осени — уж снег кругом, а они всё берегут листья на своих ветвях?
Странное дело — работы Мавриной показали мне, что тот или другой рассказ давно созрел, надо только записать его. Это было необычное ощущение, за которое я благодарен Татьяне Алексеевне.
Маленький рассказ — «Березы». Вот его текст: «Медленно тает снег в березовой роще. Кажется, вместе с ним тают березы — все прозрачней березовая роща.
От талого снега слаще становится березовый сок и светлеют, светлеют стволы, набираются снежной белизны, чтоб донести ее до новой зимы».
— Это варварство,- сказала Татьяна Алексеевна, прочитав рассказ.
— Как, то есть?
— Варварство: пить березовый сок, губить деревья.
— В рассказе об этом ни слова.
— Да ведь написано: «слаще становится березовый сок». Тут и захочется его попробовать.
Я вычеркнул березовый сок и поклялся больше никогда в жизни его не пить. На этом работа не кончилась. Через несколько дней Татьяна Алексеевна сказала, что рассказ слишком короток, по макету получается в книжке дыра, пустое место. Надо увеличить текст, немного «приписать».
Это меня огорчило, втайне я слегка гордился краткостью текста, да ведь и сок березовый вычеркнул совсем недавно. Я решил ничего не «приписывать» и, не мудрствуя, попросил Татьяну Алексеевну что-нибудь на пустое место «пририсовать». Тут дело и зашло в тупик. Маврина не могла ничего «пририсовать», а я «приписать». Профессиональный литератор, читающий эти строчки, конечно, посмеется надо мной, дескать, да что уж такое приписать что ли трудно? Но у меня ничего не приписывалось, да и «Березы» надоели хуже горькой редьки. Месяц переговоров между редактором, художественным редактором и двумя авторами не дал результатов. Только на второй месяц проснулась у меня совесть, я решился написать совсем новый текст.
Поздней осенью в березовой роще я встретил оранжевую лошадь. Верхом на ней ехал человек в зимней шапке, с топором за поясом. Встреча эта легла в основу нового рассказа — «Рыжая лошадь». Татьяна Алексеевна одобрила новый рассказ, но при этом заметила:
— Надо изменить название, выкинуть топор и зимнюю шапку. Два слова — «Рыжая лошадь» по макету не влезают, а топора и зимней шапки нет на рисунке. Сами знаете, какой у нас читатель — не увидит на рисунке топора и шапки, сразу начнет письма писать.
Я заменил название, выкинул топор, поборолся немного за шапку и, в конце концов, махнул рукой. Так получился рассказ, который теперь называется «В березах» (пожалуй, это название ничем не хуже «Рыжей лошади»).
Всегда с удовольствием и весельем вспоминаю я историю рассказа «Березы».
Конечно, мне пришлось понервничать, поломать голову, да ведь в этом и состоит труд литератора. А Татьяна Алексеевна всегда была права, она видела книжку в целом, добивалась ее стройности. Мне жалко, что работа над книжкой кончилась, потому что делать книжки с Мавриной, это, конечно, — счастье.
Впрочем, мы, кажется, начинаем думать о следующей.»
Источник